Национальная формула модернизации
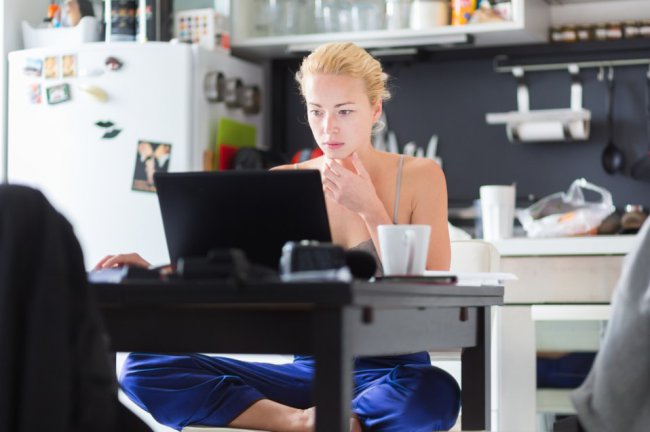 Лекция Александра Аузана
Лекция Александра АузанаМы публикуем полную стенограмму лекции известного экономиста и общественного деятеля, президента Института национального проекта “Общественный договор”, зав. кафедрой прикладной институциональной экономики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Ассоциации независимых аналитических центров экономического анализа (АНЦЭА), члена Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при Президенте РФ, профессора Александра Аузана, прочитанной 7 октября 2009 года в Киеве, в пресс-клубе кинотеатра «Жовтень» в рамках проекта «Публичные лекции «Політ.UA».
«Публичные лекции Polit.UA» - ближайший родственник «Публичных лекций «Полит.ру». В рамках проекта «Публичные лекции «Політ.UA» будут проходить выступления ведущих ученых, экспертов, деятелей культуры России, Украины и других стран.
Александр Александрович Аузан в 1979 окончил Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Научная специализация – институциональная экономика. Автор более 100 научных работ, в т.ч. двух монографий и университетского учебника по институциональной экономике. В конце 1980- годов Аузан стал одним из инициаторов создания обществ по защите прав потребителей. В 1992-2002 был президентом Международной Конфедерации обществ потребителей (КонфОП). с 2002 Председатель Высшего координационного совета КонфОП. В начале 90-х гг. стал одним из инициаторов создания кредитных потребительских кооперативов граждан (кредитных союзов). В 1994-1996 был первым председателем Совета Лиги кредитных союзов.
См. также:
- В и д е о з а п и с ь лекции
- «Национальные ценности и конституционный строй»
- «Национальные ценности и российская модернизация: пересчет маршрута»
- «Договор-2008: с кем договариваться?»
- «Договор-2008: критерии справедливости»
- «Договор-2008: повестка дня»
- «Договор-2008: новый взгляд»
- «Общественный договор: взгляд из 2009 года»
- «Экономические основания гражданских институтов»
- «Общественный договор и гражданское общество»
- «Гражданское общество и гражданская политика»
Добрый день, уважаемые друзья. Год тому назад, читая на «Полит.ру» в Москве лекцию«Национальные ценности и российская модернизация: пересчет маршрута», я сказал фразу, которую потом очень многие критиковали. Я сказал, что Россия проскочила развилку, связанную с модернизацией. Резонанс был такой, что Иосиф Дискин даже книжку специальную написал, направленную против этой фразы. И вот, год спустя, я снова начинаю говорить про модернизацию, про ее национальную формулу. С чего бы вдруг?
Я по-прежнему полагаю, что кризис – не время для модернизации в наших странах, не только в России. Объяснение этому очень простое: доминирующие группы в условиях кризиса занимаются перераспределением активов, и они не заинтересованы в том, чтобы установить достаточно четкие и устойчивые правила, без которых модернизация не работает. Правда, уже маячит идея, что кризис заканчивается. Я как экономист с этим не вполне согласен, но у правительства и у доминирующих групп такие идеи возникают. А раз кризис заканчивается, то пора поставить вопрос о том, кого бы перераспределить. И тогда появляется известный доклад «Постпикалевская Россия» и идея реприватизации. Вот пройдет этот цикл, и снова возникнет вопрос о вхождении в модернизацию.
А сам кризис вызывает мечтания (все страшно любят цитировать Йозефа Шумпетера) насчет творческого разрушения. Но я бы сказал, здесь логика ущербная, потому что не всякое разрушение является творческим. Разрушение мы наблюдаем – кризис поработал довольно разрушительно и в России, и в Украине, но я бы не сказал, что видны какие-то признаки того, что в шумпетерианской теории называется образованием какой-то новой парадигмы.
Что же будет дальше? Вот доминирующие группы на выходе из кризиса захотят модернизации, но разве понятно, как делать модернизацию? Они себе представляют модернизацию, как некую задачу: есть политическая воля, где-то добываются средства и ресурсы, - занимаются, отнимаются, накапливаются, - покупаются технологии. Надо понять, какие и где покупать, и все - вперед. Если бы все было так просто, если бы модернизация была «задачей», то мы бы давно наблюдали модернизированный мир. Но мы этого не видим, мы видим очень небольшое количество модернизированных стран. Потому что модернизация – это не задача, а проблема. Задача решается по определенной формуле: есть формула, работали по этой формуле – получили решение задачи. А с модернизацией так не получается.
У Гегеля была замечательная фраза про людей, которые возбуждение принимают за вдохновение, напряжение за работу, а усталость за результат. Я бы сказал, что ХХ век, особенно вторая его половина, дал довольно много примеров, как нации двигались по этой формуле, принимая революционную эйфорию или реформаторский зуд за вдохновение, за порыв в будущее. Напряжение, которое рвало жилы и истощало ресурсы, принимали за работу модернизации, а потом наступала усталость, и шло обсуждение великого исторического прошлого и рывка, который мог получиться. Не получается. У очень многих не получается. Почему не получается?
В утешение можно сказать, что 50 лет назад модернизацию даже и задачей не считали, а считали просто процессом, который рано или поздно происходит с любой страной. Была такая гипотеза, эволюционная гипотеза знаменитого А.Алчиана, идея которой была простая – раз институты конкурируют между собой и побеждают более эффективные институты, значит, институты во всех странах становятся похожими. А поскольку они равноэффективны, то выравнивается развитие стран: надо просто подождать и автоматический процесс приведет Гану к тому же результату, как и Голландию. Может быть, это произойдет только к концу XXI века, но произойдет.
Не происходит этого. Почему не происходит? Хотя бы потому, что эффективные институты совершенно не обязательно выигрывают конкуренцию. Устранение неэффективных институтов – это издержки, это работа, это затраты. Есть люди, про которых говорят: «дешевле убить, чем прокормить», но есть институты, которые дешевле содержать, чем похоронить, и таких институтов довольно много. Кроме того, институты - это всегда система правил, которые кому-то – издержки, а кому-то – выгоды. И те, кто получает выгоды от существующих неэффективных институтов, совершенно не намерены от них отказываться только на том основании, что существуют более совершенные институты. К тому же, оказывается, речь идет не только о формальных институтах, что коренится все в трудноизменяемых неформальных институтах. Это мы говорим – неформальные институты, а социологи поправляют нас, экономистов, и говорят – культура. Самуил Хантингтон, отвечая на знаменитую фразу Дугласа Норта «Институты имеют значение», 20 лет спустя сказал – «Культура имеет значение». И все институциональные экономисты (по крайней мере, многие из них), согласились, что это именно так.
Когда начинаешь смотреть на картины развития стран не за 10, не за 15, даже не за 30 лет подъема, а на более широких горизонтах, возникает очень интересная картина. Эти вещи очень хорошо видны, когда смотришь так называемые таблицы Артура Мэдисона, статистические таблицы о том, как развивались страны с 1820 года и до конца ХХ века. Это все достаточно достоверная статистика. Мэдисон даже больше делает: он смотрит их развитие, как он выражается, с «нулевого» года, то есть за 2000 лет. Ну, а я бы то, что было до 1820 года, все-таки всерьез не брал. Кроме одного факта, что с ХVI века группа европейских стран вдруг начинает опережать Китай, и куда-то начинает двигаться - по объемам, по оценкам того, какой валовый продукт они производят, что происходит с населением, как растет валовый продукт на душу населения. Оттуда и пошел феномен модернизации. Но вот эта группа стран туда попала, а дальше что? Ведь это были даже не все европейские страны. Испания два века пытается войти в ту траекторию, которая свойственна большинству западных и североевропейских стран, и у нее это не очень получается до сих пор, хотя сейчас она немножко приблизилась. Аналогичная история происходит в Америке. Аргентина, которая стартовала одновременно с Соединенными Штатами Америки и до середины ХХ века держала очень близкие темпы, где она теперь? Кто сейчас помнит, что в середине ХХ века Аргентина входила в десятку ведущих стран мира? Это, кстати, очень печальная история, потому что я считаю, что Россия во многом напоминает, как траекторию Испании, так и, к сожалению, траекторию Аргентины. Тогда 50 или 60 лет спустя скажут: «Вот интересная такая второразрядная страна с великой культурой и трагической историей». Это угроза вполне реальная. Выясняется, что работают какие-то силы блокировки. Какие силы блокировки?
В принципе, конечно, интересно изучать не печальные истории тех, кто не сумел войти в эту траекторию, а успешные истории тех, кто смог. Таких не очень много. Самый яркий пример – это Япония. Теперь уже видимо можно говорить о Сингапуре, но пока рано говорить о Южной Корее, Тайване. На старте находятся, уже отошли от старта, идут по высокой линии Малайзия и Таиланд. Интересней про эти вещи говорить, про ключи к успеху, а не о причинах неудач. Но вот странно - Япония проложила путь от низкой траектории к высокой – это точно, это бесспорно, этому уже 50 лет; открыл Колумб путь в Америку, чего ж другие-то не плавают, или у них не получается доплыть? И выясняется, что другим странам приходится искать какой-то другой путь, не тот, который прошла Япония. Почему? Давайте попробуем посмотреть на возможные объяснения.
Первое, что сразу напрашивается – все дело в культурных ограничениях. Потому что, когда применяют ту же самую популярную ныне теорию Шумпетера уже не к техническому развитию, а к культурному развитию и к историческому развитию в целом, то возникает идея, что, может быть, для того, чтобы выйти на высокую траекторию, нужно пожертвовать парадигмой. Нужно сменить парадигму, то есть набор национальных ценностей. И эта догадка по Японии проверяется, потому что Япония наряду с экономическими успехами имеет, например, очень высокий уровень суицида. Это единственная, наверное, из ведущих стран, которая всерьез обсуждает вопрос перевода делового оборота на английский язык, потому что для софта японский язык очень нехорош. Но ведь язык – одна из очень существенных характеристик. Поэтому, если проверять такого рода версии, там могут неприятные ответы появиться. Давайте посмотрим, работает культурная блокировка или нет. С одной стороны, когда смотришь на сравнительные траектории стран за 10 лет, то имеются подтверждения того, что это связано с определенным типом культуры. Например, кто в других регионах мира, не в Северной Америке и не в Западной Европе, близок к этим траекториям? Израиль на Ближнем Востоке, Тринидад и Тобаго, Пуэрто-Рико в Латинской Америке. Я уж не говорю про Австралию, Новую Зеландию, Канаду – то, что Мэдисон назвал western offshoots («западные отростки»). Это такие культурные пятна, которые заполнены населением с очень близким к европейскому культурным кодом.
Но есть и другие факты. Например, никто ж не скажет сейчас, как говорили после популярной книги Макса Вебера, что дело в протестантской этике, потому что проблему решили и многие католические страны, как и синтоистская Япония. Да и многорелигиозная и во многом атеистическая Южная Корея, похоже, что решила проблему, близки к этому конфуцианские Сингапур, Гонконг, Тайвань. Похоже, что мусульманская Малайзия движется по этой траектории, есть некоторые признаки и в отношении Турции. То есть вроде бы дело не в религиозных и культурных ограничениях, потому что мы говорим о разных цивилизациях и о почти полном наборе культур. Прямо скажем, там нет пока православного представителя, но и католики не сразу вписались в эту самую траекторию. Но ведь вписались же!
Мне кажется, есть еще более убедительные доказательства того, что здесь нет однозначной культурной блокировки, а дело в использовании культурной специфики. Когда начинаешь смотреть на графики движения таких «взлетающих» стран за последние 50 лет, то вдруг начинаешь понимать, что наши разговоры про Китай не вполне корректны. Потому что речь идет всегда о Китайской Народной Республике, а во второй половине ХХ века существовало четыре китайских государства. Кроме КНР это Тайвань, Гонконг и Сингапур. Сейчас их осталось три: Гонконг вошел в состав КНР. Да, конечно, два из этих Китаев – города-государства с английским правосознанием, но Тайвань – не таков. И когда вы начинаете смотреть сравнительно на данные четырех Китаев - стран одинаковой культуры, то видите, что у трех остальных китайских государств динамика намного лучше. Потому что большой Китай пока находится в рамках той динамики, которую СССР показывал в 1920-е годы во времена НЭПа, при довольно близких политических и экономических условиях до 1929 года. Это наиболее высокие темпы, и это совершенно другая фаза, это фаза перехода от аграрного общества к индустриальному. Про Сингапур и Тайвань так уже не скажешь. Оказывается, что одна и та же культура, культурная специфика может быть использована очень разным образом и привести к очень различающимся результатам.
Понятно, что у многих возникало желание исследовать успешную динамику ряда стран. Начавшийся мировой кризис заслонил довольно интересное исследование, которое в 2008 году, прямо накануне кризиса было опубликовано Всемирным банком, а провела эту работу так называемая Комиссия по экономическому росту и развитию, в которую входили бывшие президенты и премьеры ряда стран и целый ряд очень видных экономистов. Чем они занимались? Они отобрали 13 стран по следующему признаку: это страны, которые в течение 25 лет показывали средний темп роста не ниже 7%, то есть устойчиво растущие страны. Состав оказался очень пестрым: там есть Оман и есть Ботсвана, там есть Бразилия и есть Южная Корея, там есть Сингапур, естественно. Что пытались сделать те, кто реализовывал этот проект, включая бывших президентов и премьеров, которые там участвовали? Они пытались найти общие черты, и они нашли пять общих черт.
Во-первых, нужно полностью использовать возможности включения в мировое хозяйство. Я бы сказал, из этого очевиден вывод - страны, которые проводят изоляционистскую политику, не имеют шансов, хотя что такое «полностью использовать» - это очень сложный вопрос. Вот когда на сырье стоит страна, она использует все возможности, продавая это сырье?
Признак номер два - нужно поддерживать макроэкономическую стабильность. С этим несколько проще: инструменты поддержания макроэкономической стабильности известны. Довольно многие страны этим пользуются, иногда с большим успехом пользуются страны, от которых этого и не ожидаешь. Вот, например, из стран постсоветских очень неплохо проходит кризис Азербайджан: и вошли мягко, и девальвация маната не потребовалась. А страна-то полностью стоит на нефтяном бюджете, полностью от нефти зависима, ее кризис должен был разрушить - нет, ничего, грамотным макроэкономическим регулированием кризис проходят. В принципе, десятки стран в мире владеют эти инструментом, хотя не у всех это получается.
Третий признак - рыночное распределение ресурсов. Опять-таки, законодательство необходимое принять, в общем-то, можно - все знают, какое это законодательство. Но рынки получаются у многих перекошенные, потому что монопольная власть существует на этих рынках, соединение власти и собственности. Поэтому никакой тайны в этом признаке нет: известно, как его использовать, известно, с какими трудностями сталкиваются страны, когда это все внедряют.
А дальше начинаются очень интересные вещи. Два признака успешно растущих стран – это высокая норма сбережения инвестиций и довольно туманный признак, который комиссия называет «эффективность и целеустремленность лидерства и координации» или наличие национального консенсуса по поводу долгосрочных целей развития. Вообще, эти два признака говорят про одно и то же, что людей удалось убедить отказаться от сиюминутных выгод и поверить в то, что можно вкладываться в будущее. Причем не только потребителя, который готов сберегать, - это многим удается и на постсоветском пространстве: и в России, и в Украине, где довольно высокие нормы сбережения по итогам подъема, - а вот убедить еще эти сбережения превращать в производственные инвестиции, да в долгосрочные инвестиции, вот это непонятно, как удается.
Тут мы вползаем в туманные сферы, потому что нельзя сказать, что комиссия не описывает методы, которыми это делается, которыми достигается национальный консенсус. Только они оказываются очень разными, потрясающе разными. От заключения пакта между партиями в многопартийных обществах - есть некоторые незыблемые основания, которые при парламентском и правительственном перевороте не меняются - до заключения или объявления однопартийным правительством открытого и публичного социального контракта. Это правительство объявляет, что будут соблюдаться определенные нормы в течение 10 или 20 лет в отношении населения: по поводу образования, здравоохранения и распределения бюджета. Возможно также создание независимого правительственного агентства, как это сделано в Австралии. Правительства меняются, а независимое правительственное агентство непрерывно работает над реформой, не позволяя кардинально переменить стратегии, с одной стороны, а с другой стороны, собирая обратную связь от бизнеса и населения, для корректировок в рамках этой стратегии. В Ирландии были подписаны четыре социальных контракта между разными силами, которые форматировали сами реформы и обеспечивали подъем в стране.
Настолько разные методы и механизмы, что начинаешь приходить к выводу, что комиссия открыла не формулу успеха, а придумала кроссворд, где довольно много неизвестных, надо заполнять эти строчки, но каждый пишет свое. Думаю, этот вывод довольно близок к действительности, потому что исследование опыта модернизации, и успешных и неуспешных случаев, позволяет говорить о национальной формуле модернизации. Только эти национальные формулы очень разные, поскольку задача состоит в том, чтобы как-то сочетать известные методы с существующими социокультурными особенностями, и превратить эти социокультурные особенности в преимущество.
В комментарии комиссии есть прекрасные фразы - там говорится, например, о соглашении между прошлым и будущим, о том, что надо попытаться достичь этого соглашения, которое одновременно было бы соглашением между разными группами в обществе. Это сказать легко, а как это все сделать? Как достичь этого национального консенсуса по долгосрочным целям, который был бы сделкой между прошлым и будущим?
Можно твердо сказать, как сорвались модернизации, где не удалось это сделать. Яркий пример – Иран, где шла длинная и на вид успешная модернизация, проводимая Пехлеви. И вдруг на экономическом подъеме, на росте благосостояния населения происходит взрыв, происходит традиционалистская революция – и всё! Похоже, что и с Российской империей произошла почти аналогичная вещь, если верить таким интерпретаторам, как философ Георгий Федотов, - мне кажется, он очень глубоко понимал то, что происходило. Он говорил, что модернизация, в общем, была близка к успеху, когда «московит» все-таки вернул себе власть путем революции, что сорвалась модернизация, которая шла с момента реформ Александра II. 50 лет длились реформы, и они давали результат. Еще бы 20 лет, - но этих 20 лет не случилось. Революция в процессе модернизации – это практически всегда срыв модернизации.
Так что же делать? Можно, конечно, рассуждать про разные историко-философские интерпретации, но я бы считал правильным – я же все-таки институциональный экономист – говорить о том, а можно ли здесь что-нибудь посчитать, подойти к решению этой задачи? Если мы говорим, что национальные формулы разные, но это формулы, то, можем ли мы определить эти неизвестные? Существуют ли для этого методы? Мне представляется, что они есть. Я дальше буду говорить о том, как мне видится выход на эти разные национальные формулы и о расчете разных элементов в этих формулах.
Давно известен метод SWOT- анализа, когда смотрят на конкурентные преимущества, ресурсы, вызовы для каждой отдельной страны и т.д. Странность состоит в том, что почему-то их считали по одним видам ресурсов и не считали по другим. Скажем, природные ископаемые считаем, а культурную специфику не считаем. Скажем, трудовые навыки населения или образование, даже качество человеческого капитала, считаем, а, например, социальный капитал – наличие накопленного доверия в обществе, - не считаем. Хотя уже пару десятилетий известны методы, как считать тот же самый социальный капитал, это несколько сложнее, но это можно делать. В последние годы я довольно много работаю не только с российскими властями, но и властями некоторых других постсоветских стран. При этом я обнаружил удивительную закономерность: когда я начинаю говорить о патриархальном секторе, о традиционных отношениях, о кланах, о большой семье, министры-модернизаторы - очень современные люди, говорят, «вот не надо…», «давайте про это забудем», это «уходящая натура», не надо смотреть патриархальный сектор. Я им отвечаю: «Слушайте, господа, все как раз наоборот». Вы же всему миру говорите, вот у нас есть золото, а тут есть газ, а тут есть уран… У вас в патриархальном секторе заключены ресурсы, которые могут быть использованы для модернизации. Это большие хранилища социального капитала».
К сожалению, это почти не относится к России, и боюсь, не относится и к Украине. В России это относится только к некоторым регионам: конечно, к северокавказским республикам, к Бурятии – там есть традиционные сообщества, где хранятся неиспользованные запасы социального капитала - взаимного доверия, связанного с традиционными сетями. Но к основному населению, к основной территории России это не относится. Про Украину не решаюсь говорить – вам это виднее, - но есть целый ряд стран постсоветского пространства, где просто залежи этого социального капитала. В принципе, значение социального капитала для экономического подъема известно. Например, не только Япония перед японским экономическим чудом показала существенный прирост социального капитала, но даже Германия показала скачок социального капитала перед тем, как началось немецкое экономическое чудо. Обычно это предшествует крупным экономическим скачкам и значение его известно. Только, строго говоря, наличие социальных сетей и наличие социального капитала – это не одно и то же. Для того чтобы социальные сети стали социальным капиталом, нужно, чтобы они были результативны для развития, но как их сделать результативными?
Несколько примеров того, что мы с коллегами рекомендуем тем странам постсоветского пространства, где есть запасы традиционных социальных связей. В этих странах, как и у России и Украины, довольно слабенькие банковские системы. Но наличие традиционных сетей позволяет делать очень сильными не банковские системы, а кредитные союзы, общества взаимного страхования, больничные кассы. Я не уверен, что в России сейчас можно сделать больничную кассу: в начале ХХ века можно было, а сейчас нельзя. А в Казахстане можно сделать больничные кассы – это один из вариантов решения уже не чисто финансовых проблем.
На базе традиционных социальных сетей можно создать крупные организации – не нужно забывать, что южнокорейские чеболи строились на личных родственных связях. В России и Украине не построишь крупную организацию на личных родственных связях: нет такой большой семьи. А в Азербайджане, Узбекистане это возможно. Понятно, что эти социальные сети несут и негативный эффект, потому что есть кланы, которые блокируют какие-то направления развития. С ними что делать? Надо понимать, что задача не в том, чтобы устранить эти кланы, а ввести их в режим конкуренции, - ровно так, как это было с чеболями в Южной Корее. Пока они делили между собой рынки, страна стояла на месте. Когда их удалось ввести в режим конкуренции между собой, страна стала двигаться, и двигаться довольно быстро. Как ввести их в режим конкуренции? Для этого есть некоторые пути. Мы же понимаем, что эти кланы блокируют развитие, благодаря тому, что у них есть административные рычаги: вот этому клану принадлежит таможенный комитет, а этому – министерство сельского хозяйства. Хорошо, можно делать вполне модные на вид административные системы, когда имеются правительственные национальные агентства с пересекающимися разрешительными полномочиями. Следующий шаг – акционирование, потом приватизация. Вы получаете переход структуры, которая была основана на обычае, была нелегальной и коррупционной, к конкурентной структуре с легальными доходами и, по возможности, без революционных переворотов.
Путь от обычая к закону - это стандартный вариант модернизации. Ровно таким путем шли и Англия, и Испания, и Бельгия, и Германия. А вот в России, опять же боюсь говорить за Украину - здесь специальное изучение требуется и по аналогии судить очень опасно - в России (за исключением нескольких регионов) у нас нет этой точки опоры, связанной с традиционными сообществами. Почему?
В странах, переживших длительный тоталитарный режим, уничтожаются системы неформальных правил вместе с традиционными сообществами. Это еще Фридрих фон Хайек установил, а мы, к сожалению, на себе практически это чувствуем. В тех регионах, которые были особенно важны для тоталитарного режима, в них этот традиционный слой вычищен, его нет. И мы получаем совершенно другую постановку задачи. У нас нет обычаев, которые живут в традиционных сообществах. А есть атомизированное население, и исходной точкой является не обычай, а криминальные «понятия». И это очень серьезный вопрос. Я бы к этому отнесся не по-журналистски, я бы попытался об этом поговорить, как о нестандартном варианте модернизации, когда нет исходной точки – обычая, а есть исходная точка криминального «понятия». На первый взгляд это тоже такая традиция. Действительно, воровские сообщества существовали давно. Мы даже понимаем, что есть в России различия между «бандитским» Санкт-Петербургом и «воровской» Москвой, это даже на методах людей, которые приходят из того или иного региона отражается. В смысле воровских традиций Москва - город старый, там был воровской закон. А Петербург возник на болотах – не на чем там было основывать воровской закон. В Петербурге возник бандитизм и, соответственно, другая система правил преступного поведения. Такие исторические различия есть, но я бы ими не увлекался.
Если посмотреть всерьез, а когда же возникли вот эти системы «понятий» организованного преступного сообщества, то выясняется, что они возникли в середине ХХ века, в условиях тоталитаризма. Кстати, я думаю, не только СССР показал этот пример. Посмотрите, на фашистский режим в Италии: из традиционной организации, которая была связана с традиционными сообществами, - я имею в виду разные виды итальянской мафии – тоталитарный режим выковал и довел до алмазной твердости организации, которые заранее настроены на работу вне закона и против закона. Таково чрезвычайное давление, которое развивает тоталитарный режим. И я думаю, что Италия и до сих пор расхлебывает эту кашу на юге страны. Она экспортировала эту проблему в США (следующий «завоз» мафии осуществил СССР), и это следствие не традиционных отношений, а тоталитарных режимов, которые создали такой продвинутый тип преступного сообщества. «Понятия» - набор правил, который сформировали эти преступные сообщества, с ними невозможно поступать, как с обычаем. Потому что обычаи предшествуют закону, и закон не порождает обычая, а вот «понятия» порождены противостоянием закону. Это очень хорошо на латиноамериканских примерах исследовал Эрнандо де Сото. Он показал, что если крупные города накрыты «колпаками Броделя» (Фернанд Бродель их описывал), тогда вся остальная страна живет в условиях неформальных правил, которые поддерживает криминал. Кто исполняет, кто поддерживает эти правила, кто делает их незыблемыми? Они разные в разных регионах, и они настроены на противодействие закону, потому что закон этот заточен против населения, потому что это закон элит, который используется против основных масс населения. В итоге возникает круговая зависимость, ловушка.
Де Сото, публикуя совет реформаторам, говорил: во-первых, вы не придете к новому общественному договору, если вы не найдете союзников в мафии, а, во-вторых, если не оторвете часть юристов от этой корпорации, потому что вам надо разрушить эту круговую зависимость. Если вы можете ее разрушить, тогда вы переходите к политике амнистии, легализации, и получаете эффект. Хочу напомнить, президенту Перу Фухимори (ныне признанному судом коррупционером), Фернандо де Сото посоветовал такую политику амнистии и легализации, которая дала очень серьезные результаты. Мелкая собственность подорожала в два раза за одну ночь и в 19 раз за 10 лет - очень выросли активы населения Перу.
Но, я думаю, что этот совет не относится к нашим странам. Поздно говорить об организованных преступных сообществах, как о серьезных доминирующих силах в наших странах. Потому что «черные крыши» в России давно вытеснены «красными», то есть понятия-то остались, но действуют не криминальные сообщества. (Я все время повторяю, что про Украину я не решаюсь говорить даже по аналогии, хотя понимаю, что с традиционными сообществами здесь тоже не очень хорошо обстоит дело и что Украина, в этом смысле, не похожа на Казахстан или Узбекистан. Это я твердо понимаю. А вот дальше я не хочу идти в своих суждениях, здесь либо нужно проводить специальное серьезное исследование, либо вы мне скажете, что уже исследовали, и вот так это выглядит).
На самом деле произошло закономерное размывание преступных сообществ. Есть ведь уже 20 лет развивающееся направление – экономическая теория преступления и наказания, основанная Гари Бекером. Есть достаточно продвинутые модели, и там есть положение, которое очень хорошо иллюстрируется советским воровским законом. Вор «в законе» не имел права иметь семью и имущество. Как только это правило нарушается, начинается размывание преступного сообщества. Почему? Теория отвечает на этот вопрос так: потому что рискованному стохастическому доходу от преступной нелегальной деятельности начинают предпочитать постоянный доход от легализованной деятельности, и мафия начинает превращаться в один из видов капиталистической деятельности, зарегистрированной законом. Преступная деятельность уходит все дальше на периферию. Видно, как в США это произошло - от 20% национального оборота в начале 1930-х годов до где-то 3% национального оборота в конце ХХ века.
Поэтому проблема не в том, что делать с преступными группировками, а что делать с «понятиями», которые продолжают работать не только в лексике первых лиц, но и в народной лексике. Возьмите «беспредел», который характеризует неработающие законы – ведь это слово из того же самого ряда. Мои замечательные друзья и партнеры из московского клуба «2015», куда входят известные предприниматели и менеджеры, хорошо описывали развитие России в 2000-ые годы следующей формулами: сначала у них была формула «бабло побеждает зло», а в 2005-м году они уже говорили «да, бабло побеждает зло, но фуфло побеждает бабло». Так что бизнес наиболее ярко и точно выразил это в языковой системе понятий. «Понятия» остаются основой для суждений и, если хотите, инструментом разбора конфликтов, интерпретации конфликтов. Чичваркин недавно из Лондона объяснял, что произошло с его бизнесом: по существу его «крышевал» Таможенный комитет, а тут, видите ли, пришло Управление «К» и потребовало денег, но это же не «по понятиям». Все понимают – «не по понятиям». Один очень высокий чиновник объяснял, в чем, с его точки зрения, заключается для российских элит проблема Ходорковского. В том, что с серьезным пацаном поступили не по понятиям, и теперь, если он выходит, то по понятиям он «имеет право», и вот это - проблема.
Образуется целая сетка таких суждений, и в итоге мы выходим на довольно серьезный вопрос. Потому что суждения суждениями, а ведь есть такая функция, без которой общество не в состоянии прожить даже одного года. Я имею в виду – суд. Потому что без законодательной власти можно жить веками в традиционном обществе, без исполнительной власти можно жить годами, и даже десятилетиями. Могу привести примеры, в том числе и не очень древние. Например, Калифорния в середине ХIХ века 18 лет прожила формально в составе Соединенных Штатов Америки, а фактически без какого либо правительства и губернатора. Но без судебной власти невозможно прожить и одного года. Невозможно! А если судебная власть должна исполняться, она должна исполняться на основе чего-то, на основе какого-то суждения, какого-то правила. И если не работает государственная судебная власть, то либо это будет традиционный авторитет, а если нет традиционного авторитета, то будет криминальный авторитет. Последнее, что остается – это суд Линча. И я не знаю, что хуже.
Поэтому проблема конкуренции, обычая и закона, понятий и закона - она решается на одном и том же поле. Ведь на самом деле успешнее всего проблему конкуренции обычая и закона решили англо-саксонские страны, когда они создали прецедентное судебное законодательство. Но на той же почве суда, видимо, придется решать и проблему отношений по «понятиям». Как решать? Например, через формы альтернативного правосудия, примирительного правосудия, которое основывается не на «понятиях», а на удовлетворенности сторон, коллективного суждения. Почему хороши суды присяжных? Пусть они рассуждают даже по «понятиям», а не по закону, но возникает переливание вот этих самых представлений в норму законного решения. Третейские суды. Там, где существует сообщество, третейские суды эффективны, - но только там, где существует сообщество.
Понятно, что суд - это решение некой проблемы, но не решение проблемы будущего. Суд - это способ примирения с настоящим, а не создание целей будущего. Как быть с целями будущего? Может быть, мы выруливаем в этом нестандартном нашем варианте, когда нельзя опереться на обычай, двигаясь к закону в ходе модернизации, - но куда мы выруливаем? Можно ли говорить об ожиданиях и доверии, которое возникает на долгосрочных горизонтах? Откуда берутся эти вещи? И теперь я буду говорить уже не о социальном, а о культурном капитале. Потому что суд в лучшем случае восстановит социальный капитал, правда, уже не традиционного типа, а того, который действует между сообществами, что хорошо. А вот культурный капитал? Опять таки он от культурной специфики отличается, но он довольно сильно воздействует на реализацию критериев успеха.
Сначала я приведу экзотический пример, а потом вернусь к родной России. Экзотический пример называется Объединенные Арабские Эмираты. Обычно – и это видно по графикам – это страны «нефтяного пузыря, но интересно, что в ОАЭ уже 30% валового национального продукта не связано с нефтью. Как они этого добились? Им удалось, на мой взгляд, опереться на культурный капитал в этом процессе модернизации. У кочевых обществ есть свои особенности этноэкономического поведения: скажем, высокая автономность, способность к управлению процессом, потому что некогда спрашивать шейха или султана, направо гнать верблюдов или налево. Поэтому исторически выработаны способности, которые они использовали для других вещей. Кто такие эти люди в белых одеждах, граждане Арабских эмиратов, подданные шейхов? Это люди, которые занимаются регулированием и ротацией мигрантов, работающих на разных направлениях: пакистанцев – в такси, индийцев – в софте, иранцев, которые взяток не берут – в таможне. И каждые два-три года - менять, для того, чтобы эти уезжали, приезжали другие, чтобы не нарастали скрытые коррупционные сети. Они занимаются управлением сами и, по-моему, успешно занимаются. Правда, для того, чтобы они смогли это делать, нужно было, чтобы эта их роль была поддержана определенными статусными институтами, которые гарантируют и образование, и пенсии, и устойчивый доход. Вот эти институты нужно было создать. Это не просто так повезло, что вырос в пустыне цветок и зреют ягодки развития от нефтяного настоящего к какому-то более модернизированному будущему. Эти свойства были реально поддержаны созданием институтов, которые воспроизводят и усиливают культурную специфику, превращая ее в культурный капитал.
Давайте, теперь поговорим про Россию. Президент Медведев в программной статье назвал пять приоритетных направлений развития страны. Прекрасно, что там не оказалось ни одного вида массового производства (есть «новое медицинское оборудование», но я надеюсь, что президент имеет в виду не шприцы. Потому что, если будут делать шприцы, то Россия их будет делать очень плохо). Хорошо, что там нет автопрома. На самом деле, ситуация с российским автопромом трагикомическая. Трагическая, потому что как раз сейчас происходит увольнение 26 тысяч человек в Тольятти, и «Автоваз» впервые признал, что он производит некачественные автомобили. А с другой стороны, страна удивляется: мы сто лет не можем освоить автомобильные технологии, а узбеки «Дэу» делают.
Когда говорят об успешных истоках русского автопрома, то вспоминают «Руссо-Балт». Но сколько машин производил «Руссо-Балт»? Пока делаются единичные экземпляры или мелкие серии, как с ракетами, как с турбинами - все хорошо. Ведь за время, пока не смогли освоить массовые автомобильные технологии, космические-то создали и освоили. «Руссо-Балт» - не аргумент, потому что, знаете, сколько автомобилей производили Соединенные Штаты Америки в 1917 году? 1 миллион штук, а в 1929-ом – 5 миллионов штук в год. Так что не надо про «Руссо-Балт». А понимание того, что, что-то не так автопромом уже, по-моему, в народное сознание вошло. Я неделю тому назад был в Кирове, где человек из Красноярска рассказал мне следующий анекдот. Стоит российский автомобильный завод – плохие машины сходят с конвейера. Заменили всех менеджеров немцами – опять плохие. Заменили все технологии на немецкие – хоть убей, машины все равно плохие. Рабочих привезли немецких – машины все равно сходят плохими. Сидят на холме недалеко от завода бывший директор завода и бывший главный инженер. И один другому говорит: «Я тебе говорил, что место проклятое».
В каком-то смысле, это правда, потому что это повторение кукурузных проектов: есть места, где кукуруза растет, а есть места, где не растет, а растут совершенно другие растения. Массово-поточные технологии в России всегда реализуются плохо. Посмотрите на этносоциологические исследования, и они вам скажут, что по ряду причин в России с соблюдением стандартов и технологий дело очень плохо обстоит. Об этом я много говорил в своей лекции «Национальные ценности и конституционный строй». Зато хорошо обстоит дело с креативностью, и это доказано, скажем, исследованиями, которые делаются по школам. Когда ребенок приходит в школу - Россия по данным международных исследований - абсолютный лидер, а вот когда он выходит из школы – все гораздо хуже. Проблема состоит в том, что здесь, как и в экзотическом примере с ОАЭ, есть то, что может быть превращено в культурный капитал. И речь идет не только о мозгах. Между прочим, конструкторы автомобильные, вывезенные из России в Южную Корею сыграли немалую роль в создании автомобильного производства. «Левши» есть, которые в забытых городах блох подковывают, но это касается индивидуальных случаев, опытных образцов, малых серий.
Боюсь, что попытки развиваться в сторону массовых технологий обречены, а попытки двигаться в сторону нестандартных технических решений заблокированы другим. Если хотите, чтобы это был культурный капитал, нужно что-то делать с системой образования, - прежде всего со школами и техникумами. Система образования сегодня гасит креативность. В советские времена существовало определение, что процесс образования – это процесс борьбы системы образования с природной одаренностью обучающихся. Оказывается, это не шутка, ровно так и есть, - и система образования в наше время, наконец, одержала победу над одаренностью учащихся. Поэтому придется строить институты, которые превращают эти особенности этно-культурного поведения в культурный капитал.
Но и этого недостаточно. Может быть, достаточно для выбора направления и специализации, включения в мировые рынки, но недостаточно для долгосрочных целей. Долгосрочные цели-то в чем, откуда их брать? Я бы сказал, что существует два способа их формирования, причем самый простой опять-таки для России не подходит. Существуют способы компаративного кластерного анализа, которые позволяют проложить маршрут с использованием других успешных примеров. Например, постсоветской республике можно двигаться в сторону Малайзии, чтобы потом повернуть в сторону Италии. Потому что вполне реально за 15 лет воспроизвести институты близкие, если не к Северной Италии, то к Южной. Такого рода кластерные расчеты по рейтингам институтов возможны. Цели в этом случае – вешки, через которые нужно проходить. Но только для России это не годится, как это не годилось для Испании. Страны, которые были центрами империй, находятся в мучительном положении – мечта о будущем скована успехами прошлого.
Конечно, и в прошлом можно находить разные точки успеха, которые могут определять образ желаемого будущего. Например, в ХIХ – ХХ веках Россия несколько раз выдвигалась на положение научного и культурного лидера мирового значения, - правда, это возвышение касалось далеко не всех, а сами «счастливцы» нередко заканчивали жизнь в эмиграции, а то и в лагере или в петле, - чтобы потом стать объектом народной любви и государственной гордости. Отсюда одно из популярных объяснений этого феноменя – авторитаризм и «закрытый тип» культуры заталкивал людей в среду духовного и интеллектуального поиска, а потом, естественно, выносил им свой приговор…
Я бы, однако, обратил ваше внимание на другое, более позитивное обстоятельство. Лет за двадцать до каждого заметного научно-культурного взлета происходили важные изменения в российской школе. Может быть, в школе опять пора что-нибудь всерьез поменять? Потом, правда, и вне школы менять придется, - чтобы не засовывать творческого выпускника в массово-поточное производство чего-нибудь потребительского, а обеспечить институциональную среду для малого инновационного предпринимательства с большими результатами.
Рождению ценностей, определяющих долгосрочные цели, обычно предшествует осознание пустоты.
Социолог и политолог Рональд Инглхарт, представитель мичиганской школы кросс-культурных исследований сформулировал две гипотезы. Одна - о дефицитности, а вторая – о социализационном лаге. Достижение прежних ценностей рождает вакуум и требует появления новых; это изменение довольно длительное, потому что только до 25 лет поколение может воспринять новые ценности. Нужно, чтобы подвижка поколений была, - тогда новые ценности утвердятся.
Я, думаю, это вполне применимо к тому, что происходит в наших странах. Мы ведь наблюдали, как сработал этот механизм за последние 20 лет. Та революция, которая произошла в начале 90-х, разметала в клочья СССР. Она, конечно, по-разному проходила, скажем, в России и в Украине и ориентировалась на разные ценности, но, думаю, что в России преимущественно, а в Украине в значительной степени она была ориентирована на цели «антидефицитной революции» - на достижение общества потребления. Строго говоря, это не ценности, это – утилитаристские нормы, «удобства». И достижение этих норм в России происходит, когда торговые сети пришли в областные города и пошли в районные, туда же двинулась мобильная телефония, – общество потребления побеждает в России. Эти прежние ценности достигнуты тем поколением, которое выходило из дефицитной экономики. Правда, вследствие наиболее полного достижения этих целей комфортности нация уходит в отпуск.
Знаете, у Виктора Шендеровича есть такая миниатюра, немножко страшненькая. Лежит человек вечером, ворочается в постели. Не может заснуть, думает: «А вдруг, Бог все-таки есть? Господи, как мы все неправильно живем, с завтрашнего дня надо начать делать добрые дела. А если Его нет, тогда зачем все? А если Он все-таки есть?.. А вдруг Его нет?» Тут голос: «Да, нет меня, нет, спи ты, наконец». Вот в России нация ушла в отпуск, она сейчас спит. Бог сказал, что его нет. Высокие цели еще не рождены, хотя, на мой взгляд, прежние исчерпаны. Отпуск является следствием их исчерпания. Но без появления этих целей не запускается процесс долгосрочной модернизации. А он долгосрочный, и он социокультурный, а не технико-экономичесий. Вот когда вы его считаете технико-экономическим, происходит прыжок, удар головой о потолок и падение, потому что быстро можно только мобилизацию проводить, а не модернизацию. Наиболее популярное сейчас изречение среди моих коллег в группе независимых экономистов СИГМА звучит так: «Те, кто хочет все и сразу, получают ничего и постепенно». Спасибо.
Обсуждение лекции
Борис Долгин: Спасибо большое. Сейчас я буду давать слово желающим задать вопросы или выступить, время от времени, прерывая, своими собственными вопросами. Начну все-таки со своего. А Греция? Это не пример православного государства, вступившего в период модернизации?
Александр Аузан: Я бы сказал: и да, и нет, Да, она движется близко к западно-европейской траектории, но лаг довольно значительный. Греция находится в положении, похожем на Испанию, она переживает момент решения проблем, но пока нельзя сказать, что страна их решила. Я думаю, что те мучения, которые проходит Греция в связи с молодежными взрывами и т.д., это свидетельство того, что процесс далеко не завершен, идет сложно и тяжело этот процесс. Поэтому и да, и нет, Греция идет по этой траектории, хотя резко отстает от Ирландии по динамике и идет ниже Испании и Португалии.
Борис Долгин: Это три государства, освободившихся в 1970-ые годы от диктатур. Тут очень понятное сходство.
Александр Аузан: За исключением Ирландии, конечно.
Борис Долгин: Три государства - это Испания, Португалия, Греция. Хочу высказать два маленьких соображения. Первое. Некоторое время назад в рамках публичных лекций «Полит.ру» Теодор Шанин, британский и российский социолог, в ответ на просьбу дать определение, что же такое развивающиеся страны, сказал следующее: «Развивающиеся страны – это страны, которые не развиваются». Ваша мысль очень сильно перекликается. И второе. Я бы хотел зафиксировать некоторую необычность, нетрадиционность, хотя вполне логично прозвучавшую. Обычно модернизация традиционных обществ представляется как ломка традиционных институтов. Мы и сейчас видим в некоторых странах Азии, например, ситуацию, когда наступление современного общества связано с разложением естественным образом традиционных институтов. Вы говорите, что это не так, и в какой-то степени это обосновываете. Это очень небанальное суждение, которое нужно, как мне кажется, обсуждать подробно.
Александр Аузан: Можно я отреагирую? Дело в том, что «развивающиеся страны» в традиционном советском словоупотреблении это не мы, это третий мир.
Борис Долгин: Да, это страны не социалистические, как это тогда называлось, но и не развитые капиталистические.
Александр Аузан: Как Вы понимаете, меня очень волнуют Филиппины, очень. Но почему-то судьба России, Украины, Казахстана меня волнует больше. Поэтому я в этом случае сказал бы, что да, это недомодернизированные страны с зависшей модернизацией.
Борис Долгин: Надо сказать, что Теодор это определение ввел, говоря о том, почему он считает Россию более близкой к развивающимся странам, поскольку процессы в России более легко объясняются при сопоставлении именно с развивающимися странами. Он говорил в том числе о тех странах, которые Вас волнуют.
Татьяна Сенюшкина: Вы закончили свою лекцию такой фразой – «процесс модернизации не технико-экономический, он – социокультурный». Представим себе, что Россия и Украина модернизированы и приобрела новый социокультурный облик. Какой?
Борис Долгин: Сразу возникает вопрос, по каким параметрам надо оценивать?
Александр Аузан: Да, совершенно верно. Во-первых, уверен, что этот облик будет разным, и в этом один из смыслов того, о чем я говорил. Так же, как Япония или Сингапур не приняли облик Германии или Англии, очень значительно отстоят от этого облика, который вроде бы являлся ориентиром и стандартом. Другое дело, по каким признакам мы говорим, что это общество модернизировано? Мне, как экономисту, легче говорить, когда я понимаю, что есть четко две траектории, к которым притягиваются те или другие страны, и у них абсолютно разный наклон. Вот страна устойчиво переходит в высокую траекторию, вторую космическую скорость приобретает, я как экономист говорю – она модернизирована. Если Вы социолога спросите, он скажет, что это страна, где существует социальная сегментированность, где аморфность заменилась разнообразием социальных связей. Культуролог назовет вам характеристики, связанные с типом ценностей.
Борис Долгин: А политолог Григорий Голосов скажет, что вообще лозунг модернизации в условиях наших стран является спекуляцией. Об этом он уже написал.
Александр Аузан: Может быть. Я же исхожу из другого. Я даже не говорю, что модернизация - это хорошо, а немодернизированность - это плохо. Это не так. Институциональная экономика не нормативистская наука, она говорит что вы имеете разные дискретные альтернативы, каждая из которых имеет плюсы и минусы. Предположим, вы выбрали традиционное общество. Ради бога, у вас там есть вот такие плюсы, и вот такие минусы. А вот вы выбрали модернистское общество – тогда такие-то. Почему я говорю о модернизации? Потому что есть страны, которые выбрали модернистское общество и которые не могут его достигнуть. И это трагическая вещь.
Татьяна Сенюшкина: А можно более конкретный вопрос? Вы используете понятие «более высокая траектория». Есть критерии, по которым можно измерить социально-культурный смысл этой траектории? И второй вопрос. Сегодня говорят, что наши страны счастливо миновали постмодернизм. Если мы миновали постмодернизм, может быть, нам и модернизация не грозит?
Александр Аузан: Татьяна, Вы упорно хотите меня, экономиста, выманить на Ваше поле и заставить говорить на Вашем языке. Но я все равно буду отвечать на своем. По метаэкономическим данным (потому что есть макроэкономика, а есть мета, когда мы оперируем большими временными лагами, например, двести лет) – есть отличие двух траекторий, они выражены в таких-то цифрах, они выражены очень четко. Кроме того, мы можем сказать, что в странах, которые принадлежат к высокой траектории, как правило, существует более высокий уровень накопления социального капитала, более значительное распространение организаций гражданского общества, большее разнообразие в выборе способа деятельности, места занятости и так далее. Но, опять-таки, думаю, что это не те характеристики, которых Вы от меня ждете.
Я повторяю, меня не волнует модернизм – это хорошо или плохо. Меня волнует, что есть нации или этносы, которые выбрали этот путь, дергаются в положении незавершенной модернизации, традиционная среда уничтожена, модернизированная недостигнута – очень некомфортная жизнь. Вернуться в традиционную среду, на мой взгляд, невозможно. Тогда, ничего не поделаешь, надо постараться дать этим нациям возможность «подтянуться» в среду модернизированных, потом они решат, что с этим делать.
Татьяна Сенюшкина: Учитывая то, что все страны в неравных условиях вступили в эпоху глобализации, насколько неравные условия дадут этим странам возможность «подтянуться» до уровня стран, которые уже пережили модернизацию? Или эти страны увязнут в болоте модернизации?
Александр Аузан: Как ни странно, я бы не преувеличивал значения глобализации, и сейчас скажу почему. Во-первых, обратите внимание, что случаи преодоления разрыва между траекториями, если брать первую половину ХХ века, это только – Япония, а за вторую половину ХХ века – еще Сингапур, Тайвань, Южная Корея. Количество случаев преодоления невелико, но их становится больше, в связи с тем, что, вроде бы, воздействие глобализации усиливается. Но с моей точки зрения, глобализация это волновой процесс. Почитайте, что писали экономисты в начале ХХ века, как накануне Первой мировой войны все дружно друг друга убеждали, что война больше невозможна, потому что степень связанности европейских наций исключают возможность войны. Потом оказалось, что война все-таки возможна. В глобализации есть и будут происходить отливы, потому что, если невозможно мировое правительство, то глобализация будет периодически приводить к мировым кризисам. И дальше будут отливы глобализации.
Борис Долгин: Мы знаем, что когда бывает единое правительство (как, например, в Европе), то свои приливы и отливы тоже бывают.
Андрей Ганжа, «Медиацентр»: Спасибо за интересную лекцию, но скажите, пожалуйста, что такое модернизация?
Александр Аузан: Не знаю. Скорее всего, я должен был это декларировать сразу, но речь у меня, как у экономиста, идет в совершенно других измерениях. Я вот эти ножницы, устойчивость движения этих траекторий, могу рассказать и показать. Страны, которые находятся на высокой траектории, называют себя модернизированными и имеют признаки, связанные с социальным капиталом, ценностями гражданского общества и пр. А те, которые не находятся на этой траектории, часть из них, хочет перейти на траекторию более высокую. Вы хотите предложить какое-то другое слово?
Андрей Ганжа: Скажите, а есть возможность обратного движения – от более высокой траектории к низкой?
Александр Аузан: Есть. Испания в каком-то смысле это проделала, потому что в ХVI веке Испания вошла в этот процесс на равных с Англией стартовых условиях.
Андрей Ганжа: Теперь как раз о ХVI веке. Когда Вы говорили о метаэкономике, то упомянули хронологический лаг в 200 лет. Нет ли у вас ощущения, что вся эта история с модернизацией имеет в своей основе ветер в парусах трех каравелл, которые в конечном итоге привели к революции цен. Например, турецкую империю Османов практически угробило испанское золото, приехавшее из Бразилии. Речь идет о том, что для любой модернизации нужен был необратимый стартовый толчок, который произошел на рубеже ХV-ХVI веков. После этого появились мировой центр и мировая периферия, шло распределение по уровню обеспеченности и по уровню могущества. Это первый вопрос. Является ли процесс модернизации регулируемым или он все-таки необратимый, причем необратимость была заложена именно в ХV-ХVI веке?
Александр Аузан: Я еще раз напомню, что горизонтом статистических таблиц Мэдисона, на которых строятся такого рода метаэкономические анализы, является 1820 год, потому что примерно с этого года есть уже сопоставимая статистика по ряду стран. Но в целом Мэдисон попытался по отдельным данным построить и предыдущее развитие, и это абсолютно совпадает с тем, что Вы говорите. В ХVI веке происходит неожиданный отрыв небольшой группы стран. Дуглас Норт говорит, что те же процессы образования далеко не всегда приводят к успеху. Скорее всего, это некие случайные события, потому что образование было и в античности, были школяры, были средневековые корпорации, и только в одном случае это дало такой всплеск. Стечение ряда обстоятельств и всплеск — буквально несколько стран. Поэтому здесь я с Вами вполне согласен. Насчет необратимости. Говорите ли Вы о необратимости для отдельной страны? Здесь есть обратимость. Потому что если в Германии и в Италии в середине ХХ века происходит то, что немцы теперь называют национал-социалистской катастрофой, то обратимость наверняка существует.
Андрей Ганжа: Следующий вопрос касается социального капитала. Насколько я понял ваш тезис, социальный капитал, преимущественно позитивный социальный капитал, копится в качестве своей образцовой модели в традиционалистских связях патриархальных обществ. Я правильно понял?
Александр Аузан: Нет, потому что социальный капитал может накапливаться в самых разных формах. Скажем, гражданские ассоциации - это хранилище социального капитала. Причем он бывает двух типов: экономисты говорят о бондинговом и бриджинговом типе капитала. Бондинг — это когда среди своих, среди однородных возникает норма доверия, а бриджинг, когда эти нормы доверия возникают между разными группами. Поэтому, скажем, в США традиционных сообществ практически нет, а показатели социального капитала сейчас не столько снижаются, сколько фрагментируются. То есть образуются более узкие очаги социального капитала. Но при этом уровень социального капитала высок во вполне нетрадиционных сообществах. Отличие традиционных от нетрадиционных сообществ в том, попадает человек туда по принадлежности или вступление в сообщество - это вопрос его выбора.
Андрей Ганжа: Ясно, просто я задал этот вопрос из тех соображений, что абсолютно убежден: например, Китай, который является быстро растущей системой, это все-таки страна не победившего коммунизма, а победившего конфуцианства. Что в основе того, что мы называем или будем называть китайским чудом, лежит именно конфуцианство.
Во время лекции Вы регулярно дистанцировались от Украины, однако, судя по всему, Вы достаточно внимательно за Украиной наблюдаете. Как Вы полагаете, является ли трайбалистко-земляческое начало Украины возможным инструментом преодоления существующего политического кризиса? Обычно говорят, что кумовство это плохо: «Пришли донецкие в Киев, всех разогнали, придут черновицкие — опять всех разгонят». Но, может, в этом есть плюс?
Александр Аузан: Во-первых, я бы был очень осторожен в характеристиках, потому что я сегодня не говорю о конкретных методиках. В некоторых странах с помощью демографической статистики (она дает для этого хорошие возможности) мы констатируем, в каком состоянии находятся социальные сети. Потому что одно дело - клан, другое — большая семья, третье — землячество, соседская община и так далее. Поэтому я не решился бы квалифицировать, что в Украине. Может быть, Вы знаете исследования, которые констатируют, что это, я пока не знаю. А это важно, потому что с разными типами сообществ надо по-разному обращаться. Можно ли извлечь пользу, предположим, из того, что существует землячество? - Безусловно! Я утверждаю, что практически из любых устойчивых социальных связей, социальных сетей, можно извлечь пользу и использовать эти сети как социальный капитал. Хотя, конечно, автоматически на пользу работать они не будут, а могут быть и способом блокировки.
Андрей Ганжа: И последний вопрос, уже касающийся России: Вы весьма критически отнеслись к российскому массовому производству — завод Калашникова обиделся бы на Вас, потому что автоматы Калашникова Россия выпускает качественно.
Александр Аузан: Я хочу обратить внимание, что Россия сильна не тем, что она единственная выпускает автоматы Калашникова, потому что Китай с этим справляется очень даже неплохо. Россия сильна тем, что автомат Калашникова придуман в России, запущен в серию в России, а производиться он может в десятке стран, не в этом вопрос.
Борис Долгин: Маленькое замечание по поводу Китая: все-таки Китай — страна синкретической культуры, где конфуцианство аккуратно сочетается с легизмом, с даосизмом, с буддизмом и другими формами. И вычленять только одну форму, боюсь, бессмысленно.
Александр Аузан: Можно про Китай два слова? Честно сказать, кластерные анализы, которые мы проводили, прокладывая траектории длинных целей для разных стран, они все показывают фоновое значение религиозного фактора. Это имеет некоторое значение, но очень несильное. Пока нашим опытом не подтверждается большое значение религиозного фактора. Это философия скорее.
Борис Долгин: Китайцы вряд ли бы это однозначно разделили.
Александр Аузан: Я про Китай хочу сказать другое. Я еще раз вам напоминаю: вы посмотрите на разные Китаи, и тогда не будет общего суждения, что тут дает успех. Потому что по большому Китаю мой прогноз состоит в том, что через 10-15 лет они вычерпают деревню и дальше эти их фантастические цифры закончатся. И как они решат проблему, которую СССР решал во времена Хрущева и Брежнева, я пока не знаю. Рассуждения о том, что конфуцианство, принцип золотой середины и так далее, меня не очень убеждает. Позвольте вам напомнить, что всю первую половину ХХ века в Китае была почти непрерывная череда гражданских войн — с восстания «боксёров» в 1898 году и до 1949 года. Это сторонники золотой середины воевали почти 50 лет без перерыва. Поэтому не уверен в таком мощном и длительном будущем китайского эксперимента.
Борис Долгин: Вы рассказали о том, как выделено пять признаков, по которым едины страны. Вопрос обратный: есть ли страны, не попавшие в группу с высоким уровнем роста, но для которых имеются те же значения тех же пяти признаков?
Александр Аузан: Возможно. Дело в том, что когда делались национальные доклады по результатам работы комиссии, и когда Всемирный банк делал такой доклад в Москве, я задал вопрос, на который получил не удовлетворивший меня ответ. Было еще одно очень известное дорогостоящее исследование Всемирного банка, очень полезное, так называемое исследование Кифера и Ширли, когда смотрели 84 страны за период с 1982 по 1994 год. Эта выборка из 13 стран попадает в ту выборку и в те же сроки. И я спросил, посмотрели ли они, как соотносятся данные того исследования, которое доказало высокое значение институтов, с этими данными? И услышал отрицательный ответ. Так что обратной проверки не проводилось.
Виталий Лейбин: Я продолжу вопрос коллег. Когда Вы говорили про Китай, возникло сомнение: не путаем ли мы главную рамку. Не путаем ли идеологию модернизации с этими пятью пунктами, которые можно интерпретировать как совет другим странам, как нас догонять, не догоняя, с более существенным фактором, который стыдливо прикрывается фразой о том, что нужно полностью использовать преимущества мировой экономики. Сомнения у меня начали возникать, когда вы обсуждали случайность первого модернизационного рывка Голландии, Великобритании, Испании. Действительно, ведь ребята открыли Америку, открыли много золота, колонии захватили. Голландия поднялась на морской торговле, а не на том, что Адам Смит называл идеальным рынком. Это была доминирующая игра того времени. Япония, догоняя, поняла: «мы уже не успели открыть Америку, но колонии надо успеть захватить». И тогда все остальные пункты развития и модернизационного рывка проявятся сами собой, в том числе будут решены социокультурные проблемы. После мировой катастрофы, в которой выиграли только Соединенные Штаты, которые по случайности смогли остаться в стороне от большой европейской и азиатской войны или вступить в нее неполными ресурсами, в отличие от стран типа Франции, Советского Союза, Германии и Японии. Тогда началась другая игра. Очень важно было Японии понять, что сейчас уже игра не в то, чтобы захватить колонии, а в то чтобы рынки захватить.
Возможно сейчас, после этого кризиса, игра будет во что-то другое. И тогда Ваш прогноз про Китай может быть неверен, потому что он верен, если это внутреннее развитие Китая, которое проходит какие-то стадии. А если Китай понял, в чем игра, а он это понял, потому что изменился так, чтобы быть удобным партнером Америки. Вслед за этим и пошел его экономический рост. Все остальное было следствием: и рыночные отношения, и частичная демократизация, чтобы быть удобным партнером доминирующей игры, за американский рынок, как японцы. Не исключено, что сейчас начинается какая-то другая игра и вопрос модернизации будет не в том, как нам перемолоть наши ценности — в православие креститься или на украинском языке думать полностью, - а в том, где эта игра.
Александр Аузан: Я соглашаюсь с тем, что модернизация, скорее всего, предполагала разные шаги и условия для Японии в конце ХIХ-начале ХХ века и для Соединенных Нидерландских провинций в XVI веке. Наверное. Но что для меня убедительно? Почему все экономисты ахнули, когда Мэдисон сделал эту простую вещь - свел всё в единую таблицу? Я соглашаюсь, что возможны отдельные обвалы, возвратные движения, но все-таки мы четко видим группу стран, которые очень устойчиво проходят через все эти игры. Поэтому, когда говорят, что грянет всемирный кризис и поменяется лидер мирового развития, я отвечаю: Все может быть, но мне это кажется маловероятным. Посмотрите, какие кризисы уже пережили эти лидеры. Они пережили первый мировой кризис 1855-1857 г.г. в ХIХ веке, они пережили две мировые войны и Великую депрессию. Состав лидеров менялся внутри взаимного позиционирования, но нельзя сказать, что кто-то сыпался на низкую траекторию. Они все более или менее оставались в высокой траектории. Поэтому я сошлюсь на те исследования, которые все-таки делались институциональными экономистами, потому что Норт, прежде, чем Нобелевскую премию получить за теорию институциональных изменений, как раз сравнительно исследовал Англию и Испанию. Он хотел понять, в чем там было дело. Колониальную игру Испания выиграла у Англии, а будущее проиграла. Количество золота, которое везла Испания из колоний, превосходит то, что вывезла Англия, а будущее проиграла. Норт пришел к выводу — у него это называется «ошибка первоначального институционального выбора». Испания и Англия, были очень похожими друг на друга в ХУI веке, потому что англиканство в это время практически не отличается от католичества. Кроме того, нельзя религиозными вещами объяснять, что английский король возглавил католическую церковь. Но борьба парламента и короля за распределение полномочий, мануфактуры, численность населения, внешнее развитие и пр. — очень все похоже. В данном случае принципиальным оказалось решение вопроса о налогах: в Испании налоги по распределению полномочий попали в руки короля, а в Англии — в руки парламента. Причем не было ни одного знаменитого англичанина, который бы говорил в ХУI веке: «Очень важно, чтобы налоги попали к парламенту». Шел торг, и это получилось случайно. В итоге оказалось, что короли непрерывно могут менять налоговые условия и инвестировать деньги, полученные из американских колоний бессмысленно, а в Англии нужно согласие налогоплательщиков на изменение налогов и возможно инвестирование. Это не мудрость англичан, а случайность институционального выбора — в одном случае положительная, в другом — отрицательная, которая потом закрепляется. И объяснение все-таки не в размерах колоний, не в размере торговли.
Обратите внимание, что Нидерланды раньше всех размахнули свою империю. Но только их уже в ХУШ веке не было видно на этом поле. Поэтому Нидерланды не смогли решить, на мой взгляд, другую задачу: создание институтов не для мануфактуры, ремесла и торговли, а для промышленного производства. Внутренние институты они не сумели развить. В результате и популяция оказалась недостаточной, потому что популяция растет не только за счет рождаемости, но и за счет привлечения из соседних стран, если страна становится очень привлекательной по тем или иным признакам. Нидерланды не могли принять достаточно населения и контролировали территорию совершенно фантастическую для такого маленького народа. Если верить тем, кто занимался специальными исследованиями — я говорю об институциональных экономистах, — то они причины находили не в мудрости правителей или провидческих советах экономистов, но в том, как строились внутренние правила. Ведь объекты, за которые шла та или иная конкурентная война, менялись.
Борис Долгин: По поводу Китая должен заметить, что примерно те же проблемы, которые называет Александр Александрович, обозначало китайское руководство до кризиса и обозначает их после кризиса. Это именно социальные проблемы, необходимость социальной гармонизации. Была даже идея уменьшения роста за счет решения этих проблем. Сейчас идея уменьшения роста ушла, потому что ушли потребители.
Александр Аузан: Кстати, маленькая иллюстрация насчёт эффективности. Китай давал в среднем 11% годового роста при норме накопления 40%. Индия дает 9% среднегодового роста при норме накопления 30%. Скажите, кто эффективней? По-моему, Индия.
Виталий Лейбин: Я бы даже и не спорил. Конечно, Китай имеет стратегический план, у него, наверное, даже есть план демократизации, но это не убеждает меня в одном. Вы говорите, что в истории всегда можно найти ключевое решение почти случайно: по налогам, по правильному выбору союзника и т.д., которое потом настраивает другие институты. И вопрос в том, достаточно ли у институциональной науки и у мирового сообщества рефлексии, чтобы осознать, как сделать эту случайность неслучайной?
Александр Аузан: Точно — не достаточно. Институциональная экономика отличается двумя исходными положениями: в отличие от неоклассической теории, мы признаем человека ограниченно рациональным и склонным к оппортунистическому поведению. Мы это и к себе тоже относим. Насчет того, что наука умеет много гитик, у нас с самого начала были сомнения. Поэтому какие-то интерпретации возникают, и безусловно, институциональная экономика может делать операциональные вещи, но изменить ход истории не может и вряд ли сможет, извините.
Роман: Спасибо за интересную лекцию. На Ваш взгляд, что происходит с обществом, которое осознало себя преуспевшим на пути модернизации? Что происходит дальше, какой следующий этап, если мы рассматриваем это как эволюционный процесс?
Александр Аузан: Понимаете, какая интересная штука: в последнее время экономисты увлекаются такой игрушкой как happyness index — замеры счастья. Если вы знаете о том, что дали мировые замеры, то Россия и Украина оказались странами очень несчастными, где-то на уровне Экваториальной Африки по самоощущению. Зато среди лидеров оказались не наиболее передовые страны с эффективными институтами, а острова Вануату. Поэтому приносит ли модернизация счастье? Кому приносит, кому не приносит. Но безусловно то, что модернизация, решив одни проблемы, порождает другие, то, что возникают очередные ценностные кризисы. Поэтому повторяю: я категорически отказываюсь рассматривать модернизацию как самостоятельную ценность, к которой надо стремиться. Потому что «каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку, каждый выбирает для себя». Это вопрос выбора человека и вопрос выбора нации. Но меня беспокоит проблема блокировок, когда выбор произведен, а - ни назад, ни вперед. Поэтому я занимаюсь не тем, что указываю правильные пути, я пытаюсь разобраться с болезнями, которые не позволяют идти по тому или иному выбранному пути.
Дмитрий: Возник вопрос по пяти общим чертам. Хотел привести аналогию про Украину: что у нас происходило и что пытались делать. Вы говорили, что один из вариантов продвижения сотрудничества – пакт между партиями. Ющенко пытался в 2005 году подписать соглашение между лидерами. Оно был подписано, но не было выполнено. Соответственно, вопрос о ценностях: как рождаются новые ценности, ценности формируют социальные сети или социальные сети формируют ценности?
Александр Аузан: Начну с конца. Я бы сказал, что это зависит от типа сетей. Потому что, если вы имеете традиционные сети, то ценности там заданы и сети, собственно говоря, там заданы. Ценности скрепляют те сети, в которые вы входите по рождению, по принадлежности, по признаку, который вашего выбора не требует. А если мы говорим о других типах сетей, куда человек сам входит и откуда он сам выходит (кстати, криминальные сети отличаются тем, что там более или менее свободный вход, но нет свободного выхода). Так вот, если говорить о конвенциальных сетях, где человек сам входит и сам выходит, там, конечно, ценности формируются. Они производятся этими сетями. Вот вошел человек в эту сеть, он в каком-то смысле начал работать над продвижением вот этих ценностей в условиях конкуренции ценностей, которая постоянно идет в обществе. Касательно механизма появления ценностей, мне кажется, правильней говорить не с экономистом, а с культурологом.
Борис Долгин: Я думаю, что культурологи у нас будут, и социологи будут.
Александр Аузан: У меня есть свои соображения, но они дилетантские. Давайте, я лучше рассажу то, в чем я немножко разбираюсь. Касательно пакта партий. Я, конечно, слукавил бы, сказав, что не знаю, что происходит здесь, в Украине. Многие в России очень внимательно смотрят на то, что здесь происходит. В частности, потому что нам постоянно говорят в России: «Смотрите, там демократические механизмы работают, а у нас они не работают. Вам нравятся достигнутые результаты? Покажите, чем они вам нравятся? Как они с экономикой справились? Как они с социальной политикой справились?»
Это серьезный вопрос. Он нас волнует не только потому, что мы две близкие страны с общими историческими корнями, а потому что это еще и внутрироссийские вопросы. Знаете, к какому выводу я пришел, не про Украину конкретно, потому что боюсь судить там, где специальных исследований не проводил. Скажем, выход Испании из подобной ситуации, конечно, был во многом связан с пактом Монклоа, но в пакте Монклоа, по-моему, оттеняют не всегда то, что предопределило успех. Как экономист, я бы сказал, что существуют модели спроса на демократию и предложения демократии. В странах, где имеются существенные имущественные разрывы, где основной избиратель беден и не вносит существенного налогового вклада, в соответствии с теорией общественного выбора избиратель все время будет голосовать за бесплатные блага. Эта машинка начинает крутиться вхолостую. Такое происходит в Украине, такое происходило в других странах. И варианта выйти из этой ситуации два: либо ограничить демократию и постепенно ее расширять, либо пойти на самоограничения участников демократической игры. А какие самоограничения, если говорить о пакте Монклоа? Их два: это запрет раздувания социальных мандатов, популизма, потому что избиратель всегда поддержит, как только ты скажешь, что нужно больше бесплатных благ. И второе - это вопрос истории. Потому что история может быть предметом любых исследований и любых общественных дискуссий, но в определенные периоды она не может быть предметом политической борьбы. И пакт Монклоа запретил политикам использовать историю гражданской войны в Испании. Они сами себе запретили. Поэтому, если говорить о пакте партий, то вопрос: о чем этот пакт, какие самоограничения нужны? И второй, очень тяжелый вопрос: кто будет гарантом соблюдения пакта? В Испании нашелся такой вариант. Это был король Хуан Карлос. Королевская власть была фактически восстановлена как власть арбитра.
Кто это может быть в Украине? Я не знаю. Контроль над партиями снизу возможен в том случае, если люди сознают, что они свои налоги отдают государству. В России они этого не сознают. Система налогообложения так устроена, что люди даже не знают, что с них 13% вычитают подоходного налога, а еще и социальный налог. Они просто не в курсе. А вот когда они становятся в курсе, они по-другому себя ведут. Извините, что длинный ответ, но маленький важный для меня пример. Я в Кирове был недавно. Там интересный эксперимент: губернатор Белых, имея дырявые бюджеты и депрессивный регион, местному самоуправлению с дырявым бюджетом предложил, что он даст 30 копеек из регионального бюджета, если рубль будет собран в виде самообложения. То есть люди сами скидываются деньгами в городах и населенных пунктах. Собрали рублей по 200 с человека, немного. Результат оказался неожиданным: три руководителя местных самоуправлений написали прошение об отставке. Потому что люди за ними непрерывно ходят и говорят: «Ты куда вложил мои деньги?» То, что с него налоги подоходные вычитают, он не помнит, а эти 200 рублей... Ты покажи, где ты дорогу построил на мои деньги? Поэтому можно стимулировать такие контрольные вещи снизу. Но вопрос о гаранте пакта — все равно серьезный вопрос. Спасибо.
Борис Долгин: Спасибо. Время наше истекает, я позволю себе последний вопрос. Если мы исходим из того, что особенность России, а может быть не только России - проблема с массовым серийным производством, и вообще чем-нибудь массовым и серийным, как с учетом этой особенности могут быть построены институты для форсирования модернизации?
Александр Аузан: Варианта два. Во-первых, я хочу напомнить, что уже полтора года тому назад в «Билингве», когда я свою хулиганскую лекцию про национальные ценности читал, я говорил: надо выбирать не такие ценности, которые у вас укоренены, а ровно то, чего вам не хватает. Я говорил, что напрасно американцев считают либералами, потому что как раз по специфике поведения, которая возникла из развития страны, они крайне агрессивны и авторитарны. Поэтому понадобились либеральные нормы, что бы нация выжила. Что французы совсем не являются такими эгалитаристами, наоборот, это очень иерархичная нация, и нужно было это уравновешивать.
С Россией то же самое: если существует склонность к креативной деятельности при неуважении к стандарту технологий, к институтам вообще, то совершенно не следует, что с этим надо смириться. Варианта два. Первый вариант, когда отношение к технологии, стандарту и институту возводится в ценность в стране. Тогда через 30 лет мы, может быть, получим качественные автомобили. Второй вариант, когда опытные серии делаются в России, а где-то должны делаться массовые серии, - но и он требует строительства очень тонких и сложных институтов, которые обслуживали бы международный оборот. Мы знаем, что такие институты работают, что в Силиконовой долине делают такую штучку, а производство осуществляется в Юго-Восточной Азии, а финансируется оно, скажем, из арабских стран, а тиражируется оно где-нибудь в Бразилии. Но это очень сложная система институтов, связанная с такими, вообще говоря, не очень признанными в России вещами как интеллектуальная собственность. Потому что при высоком уровне креативности никто не готов уважать интеллектуальную собственность. Поэтому варианта два, но они оба связаны так или иначе с возведением в ценность того, что не свойственно историческому опыту страны.
Борис Долгин: То есть, культ Штольца?
Александр Аузан: Да. Притом культ Штольца, потому что Обломов является источником будущего.
Борис Долгин: Спасибо большое, Александр Александрович. Спасибо всем, кто пришел.
В циклах «Публичные лекции Полит.ру» и
«Публичные лекции Полiт.ua» выступили:
- Александр Юрьев. Психология человеческого капитала в России
- Андрей Зорин. Гуманитарное образование в трех национальных образовательных системах
- Александр Аузан. Национальная формула модернизации
- Владимир Плунгян. Почему современная лингвистика должна быть лингвистикой корпусов
- Никита Петров. Преступный характер сталинского режима: юридические основания
- Сергей Чебанов. Рефренность мира
- Андрей Зубов. Восточноевропейский и послесоветский пути возвращения к плюралистической государственности
- Виктор Живов. Русский грех и русское спасение
- Виктор Вахштайн. Конец социологизма: перспективы социологии науки
- Теодор Шанин. О жизни и науке
- Яков Паппэ. Российский крупный бизнес в период кризиса
- Евгений Онищенко. Конкурсная поддержка науки: как это происходит в России
- Николай Петров. Российская политическая механика и кризис
- Александр Аузан. Общественный договор: взгляд из 2009 года
- Сергей Гуриев. Как изменит кризис мировую экономику и экономическую науку
- Александр Асеев. Академгородки как центры науки, образования и инноваций в современной России
- Олег Мудрак. Язык во времени. Классификация тюркских языков
- Тамара Морщакова. Правосудие: результаты и перспективы реформ
- Амитай Этциони. Новая глобальная архитектура: механизмы перехода
- Ростислав Капелюшников. Конец российской модели рынка труда
- Сергей Иванов. Второй Рим глазами Третьего: Эволюция образа Византии в российском общественном сознании
- Даниил Александров. Школа как место национальной сборки
- Евгений Гонтмахер. Социальная политика в контексте российского кризиса
- Вадим Волков. Трансформация российского государства после 2000 года
- Лев Лифшиц. Что и зачем мы охраняем? Ценностная структура объекта
- культурного наследия
- Максим Кронгауз. Язык и коммуникация: новые тенденции
- Павел Уваров. У истоков университетской корпорации
- Владимир Бобровников. Безбожники рисуют ислам: советская (анти)религиозная пропаганда в комментариях востоковеда
- Владислав Иноземцев. Сценарии посткризисного развития России
- Алексей Левинсон. Средний класс и кризис
- Марина Бутовская. Эволюционные основы агрессии и примирения у человека
- Николай Розов. Циклы истории России: порождающий механизм и контекст мировой динамики
- Алексей Миллер. Понятие «нация» и «народность» в России XIX века
- Леонид Ионин. Социокультурные последствия кризиса
- Елена Зубкова. Сталинский проект в Прибалтике
- Александр Долгин. Перепроизводство свободы как первопричина кризиса
- Публичное обсуждение. Климатический кризис: вызов России и миру
- Татьяна Черниговская. Язык и сознание: что делает нас людьми?
- Георгий Касьянов. «Национализация» истории в Украине
- Игорь Кон. Раздельное обучение: плюсы и минусы
- Константин Сонин. Экономика финансового кризиса
- Адам Михник. Польша, Россия, Европа
- Ольга Бессонова. Образ будущего России в контексте теории раздаточной экономики
- Александр Кынев. Результаты региональных выборов и тенденции политического процесса
- Александр Аузан. Национальные ценности и российская модернизация: пересчет маршрута
- Леонид Григорьев. Как нам жить с мировым финансовым кризисом
- Евсей Гурвич. Институциональные факторы экономического кризиса
- Дмитрий Тренин. Мир после Августа
- Анатолий Ремнев. Азиатские окраины Российской империи: география политическая и ментальная
- Светлана Бурлак. О неизбежности происхождения человеческого языка
- Лев Гудков. Проблема абортивной модернизации и морали
- Евгений Штейнер. Ориентальный миф и миф об ориентализме
- Михаил Цфасман. Судьбы математики в России
- Наталья Душкина. Понятие «подлинности» и архитектурное наследие
- Сергей Пашин. Какой могла бы быть судебная реформа в современной России
- Ольга Крыштановская. Российская элита на переходе
- Эмиль Паин. Традиции и квазитрадиции: о природе российской «исторической колеи»
- Григорий Ревзин. Современная московская архитектура
- Алексей Миллер. «Историческая политика» в Восточной Европе: плоды вовлеченного наблюдения
- Светлана Боринская. Молекулярно-генетическая эволюция человека
- Михаил Гельфанд. Геномы и эволюция
- Джонатан Андерсон. Экономический рост и государство в Китае
- Кирилл Еськов. Палеонтология и макроэволюция
- Элла Панеях. Экономика и государство: подходы социальных наук
- Сергей Неклюдов. Предмет и методы современной фольклористики
- Владимир Гельман. Трансформация российской партийной системы
- Леонид Вальдман. Американская экономика: 2008 год
- Сергей Зуев. Культуры регионального развития
- Публичное обсуждение. Как строить модернизационную стратегию России
- Григорий Померанц. Возникновение и становление личности
- Владимир Кантор. Российское государство: империя или национализм
- Евгений Штейнер. Азбука как культурный код: Россия и Япония
- Борис Дубин. Культуры современной России
- Андрей Илларионов. Девиация в общественном развитии
- Михаил Блинкин. Этиология и патогенез московских пробок
- Борис Родоман. Автомобильный тупик России и мира
- Виктор Каплун. Российский республиканизм как социо-культурная традиция
- Александр Аузан. Национальные ценности и конституционный строй
- Анатолий Вишневский. Россия в мировом демографическом контексте
- Татьяна Ворожейкина. Власть, собственность и тип политического режима
- Олег Хархордин. Что такое республиканская традиция
- Сергей Рыженков. Российский политический режим: модели и реальность
- Михаил Дмитриев. Россия-2020: долгосрочные вызовы развития
- Сергей Неклюдов. Гуманитарное знание и народная традиция
- Александр Янов. Николай Данилевский и исторические перспективы России
- Владимир Ядов. Современное состояние мировой социологии
- Дмитрий Фурман. Проблема 2008: общее и особенное в процессах перехода постсоветских государств
- Владимир Мартынов. Музыка и слово
- Игорь Ефимов. Как лечить разбитые сердца?
- Юхан Норберг. Могут ли глобальные угрозы остановить глобализацию?
- Иванов Вяч. Вс. Задачи и перспективы наук о человеке
- Сергей Сельянов. Кино 2000-х
- Мария Амелина. Лучше поздно чем никогда? Демократия, самоуправление и развитие в российской деревне
- Алексей Лидов. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид художественого творчества
- Александр Аузан. Договор-2008: новый взгляд
- Энн Эпплбаум. Покаяние как социальный институт
- Кристоф Агитон. Сетевые сообщества и будущее Интернет технологий. Web 2.0
- Георгий Гачев. Национальные образы мира
- Дмитрий Александрович Пригов. Культура: зоны выживания
- Владимир Каганский. Неизвестная Россия
- Алексей Миллер. Дебаты о нации в современной России
- Алексей Миллер. Триада графа Уварова
- Алексей Малашенко. Ислам в России
- Сергей Гуриев. Экономическая наука в формировании институтов современного общества
- Юрий Плюснин. Идеология провинциального человека: изменения в сознании, душе и поведении за последние 15 лет
- Дмитрий Бак. Университет XXI века: удовлетворение образовательных потребностей или подготовка специалистов
- Ярослав Кузьминов. Состояние и перспективы гражданского общества в России
- Андрей Ланьков. Естественная смерть северокорейского сталинизма
- Владимир Клименко. Климатическая сенсация. Что нас ожидает в ближайшем и отдаленном будущем?
- Михаил Юрьев. Новая Российская империя. Экономический раздел
- Игорь Кузнецов. Россия как контактная цивилизация
- Андрей Илларионов. Итоги пятнадцатилетия
- Михаил Давыдов. Столыпинская аграрная реформа: замысел и реализация
- Игорь Кон. Мужчина в меняющемся мире
- Александр Аузан. Договор-2008: повестка дня
- Сергей Васильев. Итоги и перспективы модернизации стран среднего уровня развития
- Андрей Зализняк. Новгородская Русь (по берестяным грамотам)
- Алексей Песков. Соревновательная парадигма русской истории
- Федор Богомолов. Новые перспективы науки
- Симон Шноль. История российской науки. На пороге краха
- Алла Язькова. Южный Кавказ и Россия
- Теодор Шанин, Ревекка Фрумкина и Александр Никулин. Государства благих намерений
- Нильс Кристи. Современное преступление
- Даниэль Дефер. Трансфер политических технологий
- Дмитрий Куликов. Россия без Украины, Украина без России
- Мартин ван Кревельд. Война и современное государство
- Леонид Сюкияйнен. Ислам и перспективы развития мусульманского мира
- Леонид Григорьев. Энергетика: каждому своя безопасность
- Дмитрий Тренин. Угрозы XXI века
- Модест Колеров. Что мы знаем о постсоветских странах?
- Сергей Шишкин. Можно ли реформировать российское здравоохранение?
- Виктор Полтерович. Искусство реформ
- Тимофей Сергейцев. Политическая позиция и политическая деятельность
- Алексей Миллер. Империя Романовых и евреи
- Григорий Томчин. Гражданское общество в России: о чем речь
- Александр Ослон: Общественное мнение в контексте социальной реальности
- Валерий Абрамкин. «Мента тюрьма корежит круче арестанта»
- Александр Аузан. Договор-2008: критерии справедливости
- Александр Галкин. Фашизм как болезнь
- Бринк Линдси. Глобализация: развитие, катастрофа и снова развитие...
- Игорь Клямкин. Приказ и закон. Проблема модернизации
- Мариэтта Чудакова. ХХ век и ХХ съезд
- Алексей Миллер. Почему все континентальные империи распались в результате I мировой войны
- Леонид Вальдман. Американская экономика: 2006 год
- Эдуард Лимонов. Русская литература и российская история
- Григорий Гольц. Происхождение российского менталитета
- Вадим Радаев. Легализация бизнеса: баланс принуждения и доверия
- Людмила Алексеева. История и мировоззрение правозащитного движения в СССР и России
- Александр Пятигорский. Мифология и сознание современного человека
- Александр Аузан. Новый цикл: Договор-2008
- Николай Петров. О регионализме и географическом кретинизме
- Александр Архангельский. Культура как фактор политики
- Виталий Найшуль. Букварь городской Руси. Семантический каркас русского общественно-политического языка
- Даниил Александров. Ученые без науки: институциональный анализ сферы
- Евгений Штейнер. Япония и японщина в России и на Западе
- Лев Якобсон. Социальная политика: консервативная перспектива
- Борис Салтыков. Наука и общество: кому нужна сфера науки
- Валерий Фадеев. Экономическая доктрина России, или Почему нам придется вернуть глобальное лидерство
- Том Палмер. Либерализм, Глобализация и проблема национального суверенитета
- Петр Мостовой. Есть ли будущее у общества потребления?
- Илья Пономарев, Карин Клеман, Алексей Цветков. Левые в России и левая повестка дня
- Александр Каменский. Реформы в России с точки зрения историка
- Олег Мудрак. История языков
- Григорий Померанц. История России в свете теории цивилизаций
- Владимир Клименко. Глобальный Климат: Вчера, сегодня, завтра
- Евгений Ясин. Приживется ли у нас демократия
- Татьяна Заславская. Человеческий фактор в трансформации российского общества
- Даниэль Кон-Бендит. Культурная революция. 1968 год и «Зеленые»
- Дмитрий Фурман. От Российской империи до распада СНГ
- Рифат Шайхутдинов. Проблема власти в России
- Александр Зиновьев. Постсоветизм
- Анатолий Вишневский. Демографические альтернативы для России
- Вячеслав Вс. Иванов. Дуальные структуры в обществах
- Яков Паппэ. Конец эры олигархов. Новое лицо российского крупного бизнеса
- Альфред Кох. К полемике о «европейскости» России
- Леонид Григорьев. «Глобус России». Экономическое развитие российских регионов
- Григорий Явлинский. «Дорожная карта» российских реформ
- Леонид Косалс. Бизнес-активность работников правоохранительных органов в современной России
- Александр Аузан. Гражданское общество и гражданская политика
- Владислав Иноземцев. Россия и мировые центры силы
- Гарри Каспаров. Зачем быть гражданином (и участвовать в политике)
- Андрей Илларионов. Либералы и либерализм
- Ремо Бодеи. Политика и принцип нереальности
- Михаил Дмитриев. Перспективы реформ в России
- Антон Данилов-Данильян. Снижение административного давления как гражданская инициатива
- Алексей Миллер. Нация и империя с точки зрения русского национализма. Взгляд историка
- Валерий Подорога. Философия и литература
- Теодор Шанин. История поколений и поколенческая история России
- Валерий Абрамкин и Людмила Альперн. Тюрьма и Россия
- Александр Неклесcа. Новый интеллектуальный класс
- Сергей Кургинян. Логика политического кризиса в России
- Бруно Гроппо. Как быть с «темным» историческим прошлым
- Глеб Павловский. Оппозиция и власть в России: критерии эффективности
- Виталий Найшуль. Реформы в России. Часть вторая
- Михаил Тарусин. Средний класс и стратификация российского общества
- Жанна Зайончковская. Миграционная ситуация современной России
- Александр Аузан. Общественный договор и гражданское общество
- Юрий Левада. Что может и чего не может социология
- Георгий Сатаров. Социология коррупции (к сожалению, по техническим причинам большая часть записи лекции утеряна)
- Ольга Седакова. Посредственность как социальная опасность
- Алесандр Лившиц. Что ждет бизнес от власти
- Евсей Гурвич. Что тормозит российскую экономику
- Владимир Слипченко. К какой войне должна быть готова Россия
- Владмир Каганский. Россия и регионы — преодоление советского пространства
- Борис Родоман. Россия — административно-территориальный монстр
- Дмитрий Орешкин. Судьба выборов в России
- Даниил Дондурей. Террор: Война за смысл
- Алексей Ханютин, Андрей Зорин «Водка. Национальный продукт № 1»
- Сергей Хоружий. Духовная и культурная традиции России в их конфликтном взаимодействии
- Вячеслав Глазычев «Глубинная Россия наших дней»
- Михаил Блинкин и Александр Сарычев «Российские дороги и европейская цивилизация»
- Андрей Зорин «История эмоций»
- Алексей Левинсон «Биография и социография»
- Юрий Шмидт «Судебная реформа: успехи и неудачи»
- Александр Аузан «Экономические основания гражданских институтов»
- Симон Кордонский «Социальная реальность современной России»
- Сергей Сельянов «Сказки, сюжеты и сценарии современной России»
- Виталий Найшуль «История реформ 90-х и ее уроки»
- Юрий Левада «Человек советский»
- Олег Генисаретский «Проект и традиция в России»
- Махмут Гареев «Россия в войнах ХХ века»
- АUDIO
Обсудить
Комментарии (0)
